|
|
Перспектива в живописи
Perspective
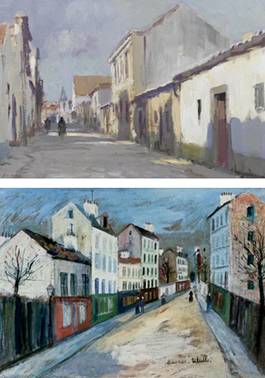 Перспектива – это наука построения форм и определения
пропорций, создающих реальное отображение мира, видимого с фиксированной
точки зрения. Перспектива – это наука построения форм и определения
пропорций, создающих реальное отображение мира, видимого с фиксированной
точки зрения.
В исследованиях о живописи
слово перспектива употребляется в более широком значении по отношению ко всем
эмпири- ческим или условным приемам, свя- занным с изображением на плоскости
трехмерного пространства. Эта проб- лема особенно важна в фигуративной
живописи. Иначе говоря, перспектива отчасти связана с тем, что можно
назвать <визуальным реализмом> в противовес <интеллектуальному реа-
лизму> (или, точнее, <концептуаль- ному>), который не столько видит
предметы и пространство, сколько знает об их существовании. Эта связь с видимым
миром, однако, не должна приводить к отождествлению перспективы с явлениями
зрительного восприятия, которые столь увлеченно изучал Леонардо да Винчи и
которые достаточно хорошо известны благода- ря научным и философским
исследова- ниям начала века, посвященным зри- тельному восприятию в целом.
Перс- пектива в действительности предс- тавляет собой рациональную сторону
<видимого реализма>.
Классическая линейная
перспектива. В сознании
западноевропейского че- ловека перспектива - это прежде всего перспектива
классическая. И именно по отношению к ней оценива- ются другие виды
перспективы. Не- бесполезно поэтому вспомнить ее ос- новные принципы в том
виде, в каком они дошли до нас. При взгляде на какую-либо группу предметов мы
видим различные свето- вые эффекты и благодаря привычке, полученной еще в
детстве, различаем некоторое число предметов, располо- женных в кажущемся нам
безграничном пространстве (видимое пространство в действительности
ограничено, но мы не замечаем этого: офтальмологи пользуются специальным
аппаратом для его измерения). Напрягая внима- ние, мы замечаем объекты
геометри- ческой формы и видим, что они обра- зуют вертикальные,
горизонтальные и косые линии, но трудно понять, ка- кой логике эти линии
подчинены. Посмотрим теперь на те же предметы через прозрачную плоскость,
мнимую или реальную, называемую <карти- ной>. Мы сразу же минуем
область, которую в средние века называли <естественной> перспективой
(<опти- ка> древних и Леонардо да Винчи), и перейдем к перспективе
<искусствен- ной>, то есть к набору данных и ве- личин, с помощью
которых и была создана наука перспективы. Зритель- ное поле, которое в данном
случае лучше назвать <живописным полем>, будет ограничено прямоугольной
ра- мой картины. Взгляд сведен здесь к одной определенной точке зрения и может
быть представлен в виде пира- миды, называемой <зрительной пира-
мидой>. Высота этой пирамиды - ли- ния, мысленно проведенная из глаза
перпендикулярно картинной плоскос- ти, - называются <основным зритель- ным
лучом>. Горизонтальная линия, также мысленная, но иногда, однако, видимая
на берегу моря и перпенди- кулярная зрительному лучу на карти- не, является
линией горизонта. Точ- ка пересечения основного зрительно- го луча с линией
горизонта - это центральная точка схода.
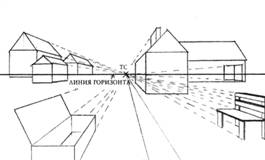 Точки, оп- ределяющие расстояние, расположены на
линии горизонта по обе стороны от основной точки схода на расстоя- нии,
равном длине х)сновного зри- тельного луча. Нижний край картины называется
<линией земли>. При центальной перспективе, то есть когда точка зрения
находится на ограниченном расстоянии от кар- тины (в противоположность
аксоно- метрии, где точка зрения уходит в бесконечность), все линии, не па-
раллельные плоскости картины, ухо- дят в глубину пространства картины. Только
линии, лежащие в плоскостях, проходящих через основной зритель- ный луч
(следовательно, через ос- новную точку схода), не уходят в глубину, даже если
они не парал- лельны плоскости картины. Число возможных точек схода может
быть бесконечным. Главными из них являются центральная точка схода, в которой
сходятся все прямые линии, перпендикулярные картинной плоскос- ти, и точки, в
которых сходятся наклонные линии, которые на гори- зонтальной плоскости
образуют с ли- нией земли угол в 45 градусов. Вы- бор расстояния наиболее
сильно вли- яет на степень искажения предметов при построении перспективы.
Если расстояние небольшое, то эффекты схода линий будут гораздо более яв- но
выраженными. Если же расстояние равно длине основного зрительного луча, то
искажения не зависят от него. Точки, оп- ределяющие расстояние, расположены на
линии горизонта по обе стороны от основной точки схода на расстоя- нии,
равном длине х)сновного зри- тельного луча. Нижний край картины называется
<линией земли>. При центальной перспективе, то есть когда точка зрения
находится на ограниченном расстоянии от кар- тины (в противоположность
аксоно- метрии, где точка зрения уходит в бесконечность), все линии, не па-
раллельные плоскости картины, ухо- дят в глубину пространства картины. Только
линии, лежащие в плоскостях, проходящих через основной зритель- ный луч
(следовательно, через ос- новную точку схода), не уходят в глубину, даже если
они не парал- лельны плоскости картины. Число возможных точек схода может
быть бесконечным. Главными из них являются центральная точка схода, в которой
сходятся все прямые линии, перпендикулярные картинной плоскос- ти, и точки, в
которых сходятся наклонные линии, которые на гори- зонтальной плоскости
образуют с ли- нией земли угол в 45 градусов. Вы- бор расстояния наиболее
сильно вли- яет на степень искажения предметов при построении перспективы.
Если расстояние небольшое, то эффекты схода линий будут гораздо более яв- но
выраженными. Если же расстояние равно длине основного зрительного луча, то
искажения не зависят от него.
Но это условие почти не вы-
полнимо. Эти соображения, которые с XVII в. разрабатывались авторами
трактатов по перспективе, часто считаются ос- новой метода воспроизведения
реаль- ности. Теперь мы знаем, что речь скорее идет о стереотипном отраже-
нии опытов теоретиков кватроченто, стремившихся создать совершенно но- вое
для того времени пространство, богатое возможностями, но столь же
противоречивое, как и всякое дру- гое. Классическая перспектива, ко- нечно,
соответствует определенному интеллектуальному уровню, в рамках которого
собственная точка зрения не может отличаться от других, а ее практическое
осуществление в дейс- твительности может представлять со- бой вид
самодостаточного техничес- кого совершенства. Но нельзя не от- метить
пренебрежение этой перспек- тивой в случаях, которые не могут быть объяснены
недостаточным интел- лектуальным уровнем. В этой связи особенно полезно
вспомнить о том, что ученость имеет второстепенное значение по отношению к
творческому замыслу, который лежит в основе ху- дожественного творчества.
Единственный способ правильно по- нять сущность перспективы во всей ее
целостности - это попытаться проследить ее возникновение и раз- витие, выбрав
в истории живописи наиболее характерные случаи ее при- менения., Византия и
средние века.
 Принципы византийской эстетики, с V в. при- витые на
итальянскую почву, будут задавать тон всей живописи Средне- вековья. Здесь мы
находим и приемы восточной перспективы. Если в целом для византийской
живописи было ха- рактерно равновесие между класси- ческими и неклассическими
элемента- ми, то в области перспективы изуче- ние схода линий к фиксированным
точкам было для нее чуждым. Попытки рационального построения пространс- тва
противоречили мистическому ха- рактеру византийского искусства. Даже когда
предметы изображены очень точно, пластическое чувство не зависело от
наблюдений внешнего мира. В мозаике хора ц. Сан-Витале в Равенне (VI в.),
изображающей им- ператрицу Феодору и ее придворных, например, в руках
императрицы можно видеть кубок, который почти в точ- ности соответствует
классическому изображению; однако в изображенных слева фонтане и
каннелированной ко- лонне смешивается то, что в класси- ческой терминологии
называется дву- мя различными точками зрения. В период зрелого средневековья
по- являются новые очень разнообразные и невероятно выразительные пласти-
ческие решения, в которых большую роль играет перспектива. Так, в сцене из
<Библии Грандваля> (Тур, IX в.), представляющей народ Израи- ля,
потолочные балки, возвышающиеся над колоннами, уходят в глубину по обе
стороны от центральной оси (так, что образуется фигура в форме буквы
<V>), за исключением крайних, которые заметно более наклонены.
Благодаря этим наклонным линиям та- кой прием, уже используемый ранее в
декоративных целях в римской живо- писи второго помпейского стиля, выступает
здесь как необычайно ди- намичное пластическое решение. Эта динамическая
перспектива явля- ется частной формой примитивной перспективы. Действительно,
в сред- невековом искусстве все говорит о синтезе восточных и античных перс-
пективных приемов и нарушений при этом и тех и других. Принципы византийской эстетики, с V в. при- витые на
итальянскую почву, будут задавать тон всей живописи Средне- вековья. Здесь мы
находим и приемы восточной перспективы. Если в целом для византийской
живописи было ха- рактерно равновесие между класси- ческими и неклассическими
элемента- ми, то в области перспективы изуче- ние схода линий к фиксированным
точкам было для нее чуждым. Попытки рационального построения пространс- тва
противоречили мистическому ха- рактеру византийского искусства. Даже когда
предметы изображены очень точно, пластическое чувство не зависело от
наблюдений внешнего мира. В мозаике хора ц. Сан-Витале в Равенне (VI в.),
изображающей им- ператрицу Феодору и ее придворных, например, в руках
императрицы можно видеть кубок, который почти в точ- ности соответствует
классическому изображению; однако в изображенных слева фонтане и
каннелированной ко- лонне смешивается то, что в класси- ческой терминологии
называется дву- мя различными точками зрения. В период зрелого средневековья
по- являются новые очень разнообразные и невероятно выразительные пласти-
ческие решения, в которых большую роль играет перспектива. Так, в сцене из
<Библии Грандваля> (Тур, IX в.), представляющей народ Израи- ля,
потолочные балки, возвышающиеся над колоннами, уходят в глубину по обе
стороны от центральной оси (так, что образуется фигура в форме буквы
<V>), за исключением крайних, которые заметно более наклонены.
Благодаря этим наклонным линиям та- кой прием, уже используемый ранее в
декоративных целях в римской живо- писи второго помпейского стиля, выступает
здесь как необычайно ди- намичное пластическое решение. Эта динамическая
перспектива явля- ется частной формой примитивной перспективы. Действительно,
в сред- невековом искусстве все говорит о синтезе восточных и античных перс-
пективных приемов и нарушений при этом и тех и других.
Именно так происходит в
широко известном листе из <Кодекса Амиатинус> из Флоренции (VIII в.), с
изображением Ездры, работающего под новой редакцией Библии. Расположение и
рисунок ме- бели даны с нарушениями правил перспективы. Скамья, на которую
поставлены ноги святого, видна под углом, совершенно отличном от той точки
зрения, с которой изображен он сам. Стол изображен по правилам обратной
перспективы, точка зрения при построении которой находится не прямо над
картиной, как обычно бы- вает в восточной живописи, но спра- ва. Что касается
открытых дверей шкафа, они показаны в совершенно другой перспективе, чем
остальная мебель. В листе из известного <Евангелия СенМедар из
Суассона> (начало IX в., Париж, Нац. библио- тека) Иоанн Евангелист сидит
на своеобразном троне, увиденном свер- ху и в ракурсе, в то время как ар-
хитектура изображена снизу и в фас. Композиция наполнена необыкновенной
динамикой косых линий, подчеркнутой также и тем, что отверстия в архи-
тектуре не совпадают с основным вертикальным направлением плоскос- ти, к
которой они принадлежат. Этот прием нарушения монотонности верти- кального
плана наблюдается также в <Вавилонской башне> из Сен-Савена. Трудно
передать все разнообразие и изобретательность перспективных ре- шений той
эпохи. В XIII в. во Франции живопись про- являет себя главным образом в вит-
ражах, которые оказывают влияние на искусство миниатюры. Перспектива отходит
на второй план, так, напри- мер, в Италии, где художественные поиски прежде
всего направлены на иератические композиции, что связа- но с подобными
явлениями в визан- тийском искусстве.
Однако именно здесь, в
Италии, в конце XIII в. начнется возрождение классической перспективы. Джотто
и классическая перспектива в Италии в XIV в. Во фресках цикла св. Франциска
верхней ц. базилики Сан-Франческо в Ассизи, исполненных в последние годы XIII
в., Джотто использует главным образом восточ- ную перспективу, однако в
некоторых случаях - например, вид города в одной из сцен - он стремился
предс- тавить изображение с одной точки зрения, хотя и не был при этом аб-
солютно последовательным. Как бы то ни было, можно заметить, что основ- ные
линии небольшой желтой построй- ки, расположенной слева под укреп- ленной
дверью, уходят в глубину в соответствии с требованиями прямой перспективы. Во
фресках капеллы дельи Скровеньи в Падуе, написанных в самом начале XIV в.,
элементы ар- хитектуры, в частности две <тайные капеллы> (как назвал их
Р. Лонги), иллюзорно изображенные по обе сто- роны хора, как и мебель в
других сценах, также представлены в соот- ветствии с тем, что будет называть-
ся классическим видением. Кроме то- го, изображая ангелов в <Распятии>,
Джотто первым применяет такой ра- курс, из которого ему с легкостью удается
извлечь поразительные эф- фекты. Эти перспективные поиски бу- дут продолжены
Паоло Уччелло, в частности в его батальных сценах.
В композиции, изображенной
на обо- роте <Маэсты> Дуччо и представляю- щей Иисуса перед
первосвященником (1308-1311, Сиена, музей собора), можно видеть
кессонированный пото- лок, изображенный в безупречно построенной перспективе
с точкой схода, сдвинутой влево. Хорошо из- вестный городской вид Амброджо
Ло- ренцетти (ок. 1335-1340, Сиена, Нац. пинакотека) является замеча- тельным
примером перспективы с дву- мя основными точками зрения. Этот ряд примеров,
свидетельствующих об увлечении перспективой художников первой половины XIV в.
и об откры- тии некоторых основных законов, можно было бы продолжить (в част-
ности, вслед за Джотто - Пьетро и Амброджо Лоренцетти в Тоскане, Си- моне
Мартини в Ассизи). Но решающую роль в этом процессе сыграют худож- ники
раннего кватроченто. Брунеллески и Мазаччо. Нет ничего удивительного в том,
что Брунеллес- ки - архитектор - стоит у истоков создания пространства,
последова- тельно основанного на рациональной перспективе. Средневековый
архитек- тор был строителем, скульптором, резчиком по камню, живописцем, мас-
тером линии и цвета. В живописи той эпохи, как и в восточной живописи,
геометрические мотивы связаны с оп- ределенными предметами. В эпоху
Возрождения, напротив, именно гео- метрия подчиняет себе изображение. Вот
почему даже негеометрические фигуры будут изображаться в геомет- рических
формах. То же произошло и со светом, который, как пишет П. Фронкастель,
<существует независимо от вещей, которые он освещает как невидимая, но
реальная и однородная среда>. Брунеллески вошел в историю живопи- си с
двумя небольшими панно, к нес- частью не сохранившимися, которые были
закончены в 1420 и изображали виды Флоренции: баптистерий, види- мый из центральной
двери собора, и палаццо Веккио, видимое с площади Синьории. Несомненно, они
представ- ляли собой опыты перспективы.
Пер- вое из них надо было
рассматривать с помощью зеркала через маленькую дырочку, проделанную на месте
цент- ральной точки схода (понятие, кото- рое было для него привычным). К то-
му же, это панно было помещено на хорошо отполированной пластине, в которой
отражалось небо. Здесь не- возможно вдаваться в подробности гипотез,
сделанных историками ис- кусства, пытавшимися объяснить принципы этого
интересного приспо- собления. Итог, который подвел Ро- берт Клейн (1963), не
позволяет сделать окончательных выводов. Оче- видно только то, что с помощью
. зеркала Брунеллески не смог добить- ся абсолютно убедительного резуль-
тата, поскольку он пытался создать совершенную иллюзию реального
пространства. Согласно мнению Кра- утхаймера (1956), перспектива Бру-
неллески была прежде всего методом зрительного определения расстояний и
размеров. В любом случае, так бы- ла подготовлена почва для Мазаччо, который
наиболее полно использовал возможности рациональной перспекти- вы и с
потрясающей силой продемонс- трировал это в <Распятии> из ц.
Санта-Мария Новелла во Флоренции. Л.-Б. Альберт>
и <costnizione le- gittima>.
В середине XV в. Леон Баттиста
Альберти, также архитек- тор, пытается синтезировать методы построения
перспективы в своем трактате <О живописи>. В это время теория и
практика перспективы были известны небольшому числу людей: труд Альберти
будет опубликован только в начале XVI в. в Нюрнберге.
Выражение
<альбертиевская перспек- тива> означает сегодня классическую
перспективу в самом строгом смысле слова. Для Альберти определение перспекти-
вы близко определению картины, ко- торая, согласно ему, есть ничто другое,
как пересечение зрительной пирамиды, с установленным центром и лучами,
представленными в виде ли- ний и цветов. Чтобы создать карти- ну, Альберти
рекомендует использо- вать <costruzione legittima>, кото- рая,
возможно, была уже известна, по крайней мере, благодаря работам Брунеллески,
и которая будет окон- чательно разработана тридцатью го- дами позже Пьеро
делла Франческа в его трактате
<De prospectiva pin- gendi>. Она
станет в XVI в. единс- твенным принятым среди интеллектуа- лов методом. Этот
метод заключается в проецировании на картину плана и общего вида предмета.
Точки, полу- ченные таким образом, перенесенные на абсциссу и упорядоченные,
явля- ются основными при построении перс- пективы. Надо заметить, что цент-
ральная точка схода здесь является скорее результатом, чем исходным пунктом
задачи. Относительно прос- тая в теории, <costruzione legitti- ma>
достаточно трудна для примене- ния на практике. Поэтому художники долгое
время продолжали использо- вать и совершенствовать приемы, наследующие
традиции мастерской, которые были не известны Альберти или, во всяком случае,
отвергнуты им. Вероятно, на практике перспек- тива строилась с помощью точки
схо- да, о чем свидетельствует уже зна- комый нам кессонированный потолок,
написанный на обороте <Маэсты> Дуч- чо. То, что этот прием не получил быстрого
распространения, объясня- ется тем, что он был очень ограни- чен в связи с
отсутствием понятия о линии горизонта, которое, согласно Р. Лонги, было
введено только Мазо- лино во фресках капеллы Бранкаччи. Двухфокусная
композиция. Необходимо также отметить большую важность другой системы,
которая, впрочем, в процессе разработки классической перспективы
присоединится к ней. Речь идет о двухфокусной композиции с двумя боковыми
точками, связанны- ми с равноудаленными делениями на нижнем крае композиции (то
есть на будущей линии земли). На стене или даже на картине иногда вбивали два
гвоздя (обнаружены их следы) и про- водили линии.
Затем строили в перс-
пективе прямоугольники с линиями, параллельными основному зрительному лучу,
пересекающиеся в центральной точке (будущая центральная точка схода). Уччелло
развил этот метод, создав единое перспективное прост- ранство. Иначе говоря,
основываясь на методе мастерской, содержащем несвязанные элементы (что отнюдь
не снижало выразительности произведе- ний), Уччелло выстроил систему столь же
логичную, как у Альберти, но менее абстрактную и, следова- тельно, более
соответствующую живо- писной практике. Во фреске неизвестного мастера в
Ассизи, изображающей Христа среди книжников, в одной сцене сочетаются
перспективные построения, основан- ные на различных боковых точках. В одной
из сцен знаменитой композиции Уччелло <Чудо с остией> (Урбино, Нац.
гал. Марке) слева изображена комната, перпендикулярные линии ко- торой
сходятся к центральной точке схода, а справа - другая комната,
перпендикулярные линии которой ухо- дят к точке, расположенной на витой
колонне. В <Рождестве> из ц. Сан-Мартино алла Скала во Флоренции этот
прием <приводит к созданию па- норамной композиции, в которой лю- бая
точка горизонта, если на ней останавливается глаз, оказывается центральной
точкой схода> (Р. Клейн, 1961). В <Бичевании Христа> (Урбино, Нац.
гал. Марке) Пьеро делла Франческа также использовал двухфокусную композицию,
хотя сам он был теоретиком <costruzione le- gittima>. Созданное им
пространство очень отличается от пространства Уччелло; линия горизонта
расположе- на очень низко. В начале своего расцвета линейная перспектива
служила устремлениям самых разных творческих личностей. Леонардо да Винчи.
Изучая все тон- кости перспективы и пытаясь согла- совать ее с
<оптикой>, которая раз- вивалась у него в направлении того, что мы
называем восприятием, Лео- нардо да Винчи способствовал широ- кому
распространению перспективы, но в то же время показал ее пара- доксальный
характер. В этом смысле позиция Леонардо очень близка пози- ции Альберти:
перспектива для него не что иное, как видение предмета сквозь гладкое и
прозрачное стекло, на поверхности которого можно отме- тить все видимое;
линии между стек- лом и предметами приобретают форму пирамиды.
Но Леонардо прекрасно по-
нимает, что изображение будет по-настоящему соответствовать види- мой
реальности только в том случае, если рассматривать ее с фиксирован- ной точки
зрения, то есть одним глазом, и особенно с расстояния, соответствующего тому,
которое от- деляет глаз от картины. Во всех других случаях изображение будет
в большей или меньшей мере деформиро- вано. Прежде всего очевидно, что если
смотреть на изображение, построен- ное по принципам центральной перс-
пективы, со слишком близкого расс- тояния, то эффект схода будет менее
заметным. Если же созерцать изобра- жение с очень далекого расстояния, то
эффект схода будет очень ясно выраженным. Особенно легко понять необходимость
фиксированной точки зрения при анаморфозе, то есть ког- да правила линейной
перспективы применяются к объекту, видимому с очень близкого расстояния.
Предмет подвергается такому искажению, что его уже нелегко узнать при другой
точке зрения, отличной от точке зрения художника, создавшего ана- морфическое
изображение. Напротив, фиксированная точка зрения теряет свое значение, если
предмет нарисо- ван с достаточно далекого расстоя- ния. Леонардо занимала и
еще одна проб- лема. Линейная перспектива предус- матривает только уменьшение
предме- тов в глубину. Однако при наблюде- нии невооруженным взглядом
происхо- дит сильное боковое уменьшение. Чтобы воспроизвести этот эффект,
надо использовать не плоскую, а сферическую поверхность или, по крайней мере,
изогнуть все горизон- тальные и вертикальные линии, за исключением линии
горизонта и ос- новной вертикальной линии. Довольно трудно судить о том, был
ли этот вопрос для Леонардо только умозри- тельном или же он предполагал
прак- тическое применение. Очевидно лишь, что мы не знаем ни одного произве-
дения, построенного по правилам этой криволинейной перспективы. Но в любом
случае эти боковые искаже- ния нельзя ставить в один ряд с уменьшением в
глубину. Глаз в этом случае воспринимает картину как не- кий естественный
вид, опять же при условии, что он находится на нужном расстоянии. Поэтому
можно поддер- жать мнение Д. Джозеффи (1957), что в криволинейной
перспективе, где живопись сама является объектом, послушным взгляду,
происходит вто- ричное искажение или совмещение различных искажений. Но на
этом трудности не заканчива- ются. Линейная перспектива придает предметам
форму без учета искаже- ний, происходящих под действием света. По Леонардо,
из предметов одной величины, расположенных на одинаковом расстоянии от глаза,
бо- лее освещенный кажется больше и, наоборот, более темный кажется меньше.
Наконец, Леонардо ставит вопрос и о воздушной перспективе, которая, смягчая
контрасты, размы- вает формы удаленных предметов. На- до ли попытаться
передать этот эф- фект в изображении или же предоста- вить глазу возможность
<работать> перед картиной, как перед объектом природы? Все эти проблемы
перспективы, зат- ронутые художниками Ренессанса, приводят к вопросу,
сформулирован- ному Робертом Клейном (1961): <Если зрительный образ
предполагает субъ- ективную трансформацию впечатлений, надо ли в искусстве
точно переда- вать результаты этого процесса - например, оптические иллюзии -
или же необходимо изображать вещи сог- ласно рациональным представлениям,
оставляя глазу возможность самому подвергать предмет тем же искажени- ям, что
и чувственные данные, выз- ванные этим предметом?>
Однако, очевидно, как пишет
далее автор, что этот вопрос <не может быть ре- шен, поскольку любой ответ
приходит в конце концов к своей противопо- ложности. Согласно объективному,
научному методу, в картине не сле- дует воспроизводить ошибки и недос- татки
зрения, но следует учитывать их при восприятии картины. Аналити- ческий же
подход, согласно которому все недостатки зрения должны быть отражены в
картине, отрицает, таким образом, существование зрителя. Эта дилемма
свидетельствует о глубокой двусмысленности использования перс- пективы в
искусстве>. Но драма перспективы связана, на самом деле, с тем, что для
изобра- жения предметов художник использует листы бумаги, дерево, холст или
стены, то есть, плоскую основу, ко- торая сама по себе также является
объектом. Двухфокусное зрение, ко- торое, как всем известно, играет большую
роль в нашем восприятии рельефа, подчеркивает несамостоя- тельность основы.
Несомненно, имен- но поэтому Леонардо неоднократно советует смотреть на
картину не только с определенного расстояния, как мы обычно и делаем, а одним
глазом и лучше через маленькое от- верстие, как это было в случае с панно
Брунеллески. Когда глаз прис- посабливается, края отверстия ста- новятся
расплывчатыми, благодаря чему мы забываем о геометрической форме,
ограничивающей картину, и о том, что это отверстие также явля- ется объектом.
Тем самым границы между реальностью и картиной стира- ются, что создает
иллюзию и значи- тельно облегчает восприятие. Другой метод создания иллюзии
зак- лючается в продолжении архитектур- ных элементов, изображенных на кар-
тине, в пространство, где находится зритель. Так делали художники эпохи
барокко. Трактаты о перспективе. Этот конф- ликт между геометрией и природой
описан в <Кодексе Хёйгенса>, в ко- тором нашли отражение идеи Леонардо
(даже если Хёйгенс и не был его ав- тором, как это часто допускают). Но
авторы большей части других тракта- тов, посвященных перспективе, пыта- ются
вслед за Альберти и Пьеро дел- ла Франческа сделать из нее чисто геометрическую
науку. Так, в своем трактате <О скульптуре>, написанном в 1504 в Падуе,
Горикус отказывает- ся от <естественной> перспективы ради весьма
абстрактной <искусс- твенной>. Трактат каноника Жана Пе- лерена,
изданный в 1505, демонстри- рует основные законы классической перспективы.
Что касается Дюрера, то
само название его труда (Париж, 1532)
- <Institutionum geometricum
libris quatuor> - указывает на то, что этот
предмет является для него неотъемлемой частью проблем, свя- занных с чистой
геометрией. Как и все художники его времени, Дюрер, разумеется, был охвачен
стремлением достичь истинного отображения окру- жающего мира, и для этого он
разра- батывает приборы, вдохновленные принципом рисования на стекле, ре-
комендованным от Леонардо. Но, в отличие Леонардо, Дюрер не ставил себе целью
получение полной иллюзии естественного видения. Вслед за работами Жана
Пелерена и Дюрера появляется большое количест- во трактатов, посвященных
перспек- тиве, особенно в Нюрнберге и Вене- ции. Архитектор Серлио, например,
исследует перспективу во второй части своей книги, посвященной Вит- рувию
(1537). Он признает как <costruzione legittima>, так и перспективу с
центральной точкой схода. Он будет много заниматься театром, так же, как
геометр Дани- эль Барбаро. Во Франции Жан Кузен выпускает в 1563 книгу о
перспекти- ве, вдохновленную Жаном Пелереном и Дюрером, а архитектор Андруэ
дю Серсо в 1576 трактат
<Lecons de perspective positive>. В Венеции в 1594 появляется <La Pratica di
prospettiva> Сиригатти. Перспекти- ва, таким образом, постепенно прев-
ращается в геометрическую науку и благодаря Гвидо Убальди и ЖераруДе- заргу
(1591-1661) тяготеет к проек- ционной геометрии. Художники же все меньше
чувствуют к ней свою при- частность. Выразительные возможности перспек- тивы.
На самом деле художники, про- являя сильный интерес к перспекти- ве, никогда
не соблюдали точно тео- ретические правила и приспособились к дуализму этой
науки. Складывается впечатление, что перспектива была для них неким
умозрительным постро- ением, которое на практике допуска- ет более или менее
свободную трак- товку. Не случайно, что страстное увлечение Уччелло
перспективой иногда воспринимается иронично; можно вспомнить также и ясность
и простоту произведений самого Лео- нардо, казалось бы противоречащих интеллектуальности
его сочинений. Вместе с тем не следует забывать об интересе итальянских
художников XV в. к искусству северных школ, и в частности к нидерландской
живописи.
В Нидерландах, как и во
Франции, классическая перспектива, заимство- ванная из Италии, проявляется в
бо- лее живой и непосредственной мане- ре, лишенной сложных умственных
построений. Северных художников в большей степени привлекают необыч- ные
аспекты перспективы, а не ее последовательная разработка. Так, на левой
створке алтаря из монасты- ря Шанмоль (<Благовещение> и <Встреча
Марии и Елизаветы>, 1393-1399, Дижон, Музей изящных ис- кусств) Брудерлам
создал анаморфи- ческое изображение небольшого архи- тектурного сооружения, в
котором находится Мария и которое гармонич- но вписывается в общую
композицию. Некоторые композиции Жана Фуке, ко- торый бывал в Италии (как и
все ху- дожники той эпохи, использовавшие линейную перспективу), построены на
выпуклой поверхности, подобной вра- щающейся сцене в современном теат- ре.
Возможно, он изучал эффекты вы- пуклого зеркала. Ян ван Эйк также размышлял
над возможностями этой перспективы - в выпуклом зеркале отражаются спины
супругов Арнольфи- ни на их знаменитом портрете. Во франко-фламандской
живописи перспективу заменяет точное воспро- изведение окружающего мира.
Поэтому именно в северном искусстве, от ван Эйка до Брейгеля, особое развитие
получила воздушная перспектива, при которой эффект глубины передается путем
изменения тонов и ясности очертаний. Известно, что в северных странах
подобный эффект в реальнос- ти часто вызван туманом. Однако в первой половине
XV в. такие худож- ники, как Мастер из Флемаля и Ян ван Эйк, тщательно
выписывают даль- ние предметы, возможно, не так яс- но, как Пьеро делла
Франческа, но достаточно для того, чтобы зритель мог почувствовать их
удаленность. Зритель должен располагаться на оп- ределенном расстоянии от
картины; если же рассматривать картину вбли- зи, то эффект глубины исчезает.
Во второй половине XV в. (Мемлинг) и в XVI в. (Босх, Патинир, Брейгель)
художники будут стремиться воспро- извести эффекты, наблюдаемые в при- роде;
отсюда происходит традиция голубоватых далей, которые зритель может
почувствовать, находясь на любом расстоянии от картины. Расцвет классической
перспективы. С XVI в. верх окончательно берет ра- циональная перспектива.
Отныне ни один художник не может стать из- вестным, если он явно нарушает ее
законы. Это не означает, однако, что перспектива всегда играла клю- чевую
роль. В большинстве своем ху- дожники были посредственными гео- метрами. Но
свои скромные познания в этой области они заменяют реалис- тичным визуальным
чутьем. Лишь нем- ногие, подобно Дюреру, стремились изобразить человеческое
тело в перспективе с помощью геометричес- ких схем. Тем не менее маньеристы
использовали всевозможные хитроум- ные ракурсы и стали их непревзой- денными
мастерами, благодаря унас- ледованной от Микеланджело виртуоз- ности и своему
вкусу ко всему странному и экстравагантному. В XVII в. перспектива
утвердилась столь прочно, что стала теперь слу- жить интерпретации самого
сюжета картины. Так, например, совершенно очевидно, что у Пуссена перспектива
не столь важна в картине <Аркадские пастухи>, но зато выражает самую
суть сюжета в <Похищении сабинянок> (Париж, Лувр), где почти анаморфи-
ческая, но достаточно строгая ком- позиция создает впечатление неопи- суемого
беспорядка.
Кроме того, перспектива
как средство натуралис- тического изображения становится в XVII в.
объединяющей основой, по- добно тому, как в музыке такой ос- новой была
система тональностей. Художники эпохи барокко не могли больше
довольствоваться статическим характером классической перспективы и в росписях
плафонов создали со- вершенно особый тип перспективы. Как и в анаморфозе,
здесь предпола- гается, что предмет рассматривается с очень близкого расстояния
и поэ- тому уходит резко вверх; вместо простых вертикальных линий исполь-
зуются наклонные. Тем самым изобра- жение приобретает больший динамизм.
Подобные эффекты иногда использовал и Тинторетто, например в картине
<Иосиф и жена Пентефрия> (Мадрид, Прадо). Другое средство для созда-
ния эффекта движения открыл еще Пь- еро делла Франческа; суть его зак-
лючалась в очень низком расположе- нии линии горизонта. Барочные живо- писцы
опустили линию горизонта еще ниже, благодаря чему стало возмож- ным достичь поистине
головокружи- тельного эффекта падения. Барочному иллюзионизму присуш и
развитый вкус к ракурсам, проявившийся, в част- ности, в росписях плафонов в
Риме и Австрии. Упадок классической перспективы. Делакруа был последним
мастером, использовавшим классическую перс- пективу для построения своих
гран- диозных исторических композиций. Большинство же художников XIX в.
относилось к ней как к обычному на- выку живописца. Между тем появивши- еся у
Энгра перспективные искажения предвещали новое видение. Импресси- онисты,
хотя и относились к перс- пективе еще с большим почтением, потрясли ее
основы, развив до пре- дела чувственность образов, чему отчасти
способствовала сама класси- ческая перспектива. Еще Леонардо писал, что все
тела вместе и каждое в отдельности наполняют картину бесконечными образами,
которые сох- раняют природу, цвет и форму изоб- ражаемых предметов.
Перспектива, добавлял он, <правит> живописью. Иначе говоря, Леонардо
считал, что геометрия может упорядочить наши ощущения. Сезанн и перспектива.
Именно это поймет Сезанн, который, приняв имп- рессионистическое видение,
вновь введет в живопись геометрические принципы. Когда Сезанн говорит, что в
апельсине, яблоке, шаре и голове есть точка, которая всегда наиболее
приближена к нашему глазу, он имеет в виду именно перспективу.
Еще бо- лее определенно
Сезанн высказался в письме Эмилю Бернару (15 апреля 1904): <Разрешите мне
повторить то, что я уже говорил Вам здесь: трак- туйте природу посредством
цилиндра, шара, конуса -и все в перспективном сокращении, то есть каждая
сторона предмета, плана должна быть направ- лена к центральной точке. Линии,
параллельные горизонту, передают протяженность, то есть выделяют ку- сок из
природы или, если хотите, из картины, которую Вечный Всемогущий Бог
развертывает перед нашими гла- зами. Линии, перпендикулярные этому горизонту,
дают глубину>. Однако перспектива Сезанна отходит от классической
перспективы и стано- вится чувственной; она стремится разрешить
фундаментальный парадокс перспективы, о котором уже шла речь выше, ценой
искажений, отмеченных многими критиками и историками ис- кусства. Об этом
говорит и философ Мерло-Понти: <Когда я смотрю на уходящую к горизонту
дорогу, бесс- мысленно говорить и то, что края дороги сходятся в одной точке,
и то, что они параллельны: они парал- лельны в глубине. Ни перспектива, ни
параллелизм не являются дан- ностью. Я нахожусь на самой дороге, а глубина не
задает ни ее перспек- тивной проекции, ни <настоящей> до- роги> (<Phenomenologie de la per- ception>, 1945). Таким образом, в подлинной
перспективе геометрия из- бегает всякого научного контроля. Эксперимент
приходит к своему за- вершению. Перспектива в современной живописи. В Сезанне
обычно видят предтечу ку- бизма и, следовательно, современной живописи. Это в
некотором смысле верно, но можно задаться вопросом, не будет ли в конечном
счете пра- вильнее считать его творчество ге- ниальным завершением драмы,
возник- шей в эпоху кватроченто?
Когда кубизм по-своему
воспримет конструк- тивные приемы Сезанна, вопрос о перспективе отпадет сам
собой. Мож- но даже сказать, что аналитический кубизм был самой удачной
попыткой избежать совмещения реального мира и воображаемого мира картины,
сов- мещения, которое может случиться даже в абстрактной живописи. С этого
времени перспектива перес- тает быть объектом исследования. Трудно, например,
всерьез рассмат- ривать аллюзии на перспективу в <Педагогических
эскизах> (1925) Па- уля Клее, каково бы ни было наше восхищение
творчеством этого худож- ника. В свою очередь, Андре Лот (<Traite de la
figure>, 1950) дает понять, что художники отныне сво- бодны в выборе
различных типов перспективы. Действительно, в сов- ременном искусстве
проблема перс- пективы является частью более общей проблемы пространства.
Более других перспективой продолжали интересо- ваться сюрреалисты; Де Кирико,
нап- ример, открыл <волнующую связь> между перспективой и метафизикой.
В его <Пророке> (1915) изображен призрачный персонаж перед черной
доской с перспективными рисунками. Если кубисты отказались от перспек- тивы,
которая стала теперь грамма- тикой видимого мира, то сюрреалисты увидели в
ней оккультное и тревож- ное знание.
Термины:
передний план картины
художники
импрессионисты
фронтальная
перспектива
что такое
экспрессионизм в живописи
теплые и холодные
цвета в живописи
пропорции в живописи
стилизация в живописи
симметрия в живописи
перспектива в работах
художников
|

